с регионами России




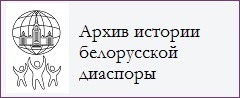
06 мая - 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.
05 мая - 105 лет со дня рождения Станислава Монюшко (1819 - 1872), польского и белорусского композитора, дирижера, педагога.
Календарь памятных датс Издательским домом «Звязда»
Глеб Отчик: С предложениями приходит только 5% художников, а остальные 95% говорят «Дай»

Уже месяц Союз художников, в который входит более тысячи членов, действует под руководством нового председателя: 17 декабря на съезде Союза на смену Григорию Ситнице был избран 36-летний Глеб Отчик. Поскольку входить в курс дела у Глеба — художника, преподавателя и до сих первого заместителя председателя организации особой нужды не было, мы пришли в офис объединения и чуть ли не с порога задали вопрос: какая проблема стоит для Союза наиболее остро?
— Я знаю эту кухню давно, и для меня самым актуальным вопросом является собственно возможность работать и условия работы художника, т.е. цены на аренду мастерских, заказы на скульптурные или монументальные произведения со стороны государства, сотрудничество с коммерческими галереями и так далее. Все то, что способствует развитию авторов и вообще культурной среды, а одновременно — пропаганде высокого искусства и повышению престижа страны за рубежом. К постоянному увеличению цен мы уже как-то привыкли, более актуальной является социальная защищенность художников, которые могут отдать искусству жизнь, причем с участием в крупных республиканских и международных проектах, отстаивая достоинство белорусского искусства в контексте мирового, а пенсию получить, будто отсидели тунеядцами. Нашу страну знают, в том числе, благодаря искусству, и для меня важна возможность пересматривать конкретные случаи, когда вклад в белорусскую культуру доказан.
— Те же мастерские уже давно звучат в качестве проблемы — в чем тут дело?
— В художественной среде большой перекос: кто-то продает свои произведения за тысячу рублей, а кто-то за пять и более. Последних не очень много — из тысячи только сто художников хорошо зарабатывают и без проблем оплачивают мастерские. А есть те, кому в предлагаемых условиях не повезло, либо они пока не нашли своего зрителя, либо не обладают коммерческой жилкой, поэтому особо нуждаются в постоянной возможности заработать. Например, аналогичное объединение художников в Швеции поддерживает всех своих друзей, несмотря ни на что, и для всех создает одинаковые условия, не выступая в качестве судьи, который оценивает, кто и чего стоит. Мы также с помощью государства могли бы дать художникам дополнительные возможности заработать.
— Вскоре после того, как вы стали председателем Союза, прогремела трагедия с Захаром Кудиным. Когда стали разбираться с причинами самоубийства, говорили и о том, в каких условиях художникам иногда приходится существовать и как оценивается их работа. Как, на ваш взгляд, художник чувствует себя в нашем сегодняшнем культурном контексте?
— Если кто-то думает, что художнику легко где-то в другой стране, а я знаю много коллег из Чехии, Голландии, Дании, — то нет. Я и сам после окончания Академии начинал с декоративного оштукатуривания стен, а заработанные деньги вкладывал в свое развитие. Несколько лет я провел на стройке, перед тем, как наконец получить заказы на росписи и фрески. Когда у меня не было возможности зарабатывать искусством, я не переставал писать — половина дня со штукатуркой, остальное время с живописью. На последнем курсе Академии я нанялся в «Керамин», где разрабатывал коллекции плитки. Художник должен пройти этот путь как экзамен, только кто-то проходит его за два года, а кто-то — за двадцать: начать с того, что ты гений и страна должна тебе все дать, не может никто. Поэтому иногда приходится наступать себе на горло, но я бы не сказал, что условия для развития у нас хуже, чем за рубежом. Чтобы художнику в Германии выставиться в частной галерее, может потребоваться заплатить пятнадцать тысяч евро, а здесь, конечно же, никто таких денег не попросит.
— Но ведь есть какие-то объективные характеристики сферы — у нас скромный арт-рынок, не распространено коллекционирование, не хватает частных галерей.
— Арт-рынка у нас просто нет, потому что им никто не занимается, соответственно те немногие коллекционеры, обладающие тысячей и более произведений, не могут оценить свои коллекции. Пока в стране картина не станет товаром, арт-рынок не возникнет. Наши друзья — Белгазпромбанк — через «Осенние салоны» и другие мероприятия пытаются его формировать, но пока это только первые шаги. Вы не заметите у нас активной кураторской работы, а по большому счету, чтобы не было трагических случаев, когда из Академии искусств выпускается талантливый художник и не знает, куда приткнуться, должен быть кто-то, кто его подхватит. Думаю, Союз и Министерство культуры также могут участвовать в этих процессах, нам нужно проводить семинары, конференции, встречи и вместе рассуждать о том, чего сфере не хватает и как улучшить ситуацию, а не молчать до первой беды. Тем не менее, мне кажется, изменения в белорусском искусстве за последние годы очевидны, в том числе отношение государства становится более внимательным.
— Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы создать в Беларуси арт-рынок, и многое ли здесь зависит от государства?
— От государства зависит, конечно, много: с его стороны можно увеличить статью на искусство в бюджете страны и, например, вернуть советскую практику, когда в строительстве один-два процента от общего бюджета отдавались на художественное оформление — тогда бы у нас появились монументальные, рельефные, живописные произведения и скульптурные композиции. А в целом начинать надо с образования. Я родился в Гомеле и по одной из чернобыльских программ два месяца учился в Голландии. Я подружился с семьей, в которой жил, и мы также пригласили ее в гости. У них было пять мальчиков от пяти до пятнадцати лет, и на выставке в гомельской галерее я спросил, какие работы им нравятся больше всего. Мой отец был председателем Гомельского областного отделения Союза художников, и он был поражен тем, как они разбираются в искусстве. Оказалось, они с детства ходили на выставки, а с такой практикой за несколько лет, хочешь или нет, у тебя сформируется вкус, и ты будешь сам анализировать и покупать искусство. Поэтому еще одна необходимая для появления художественного рынка вещь — включение регулярного посещения экспозиций, обязательно с искусствоведами, в образовательную программу. Я уже не говорю, что чем больше у нас будет аукционов, выставок и международных контактов, тем быстрее рынок будет формироваться.
— Возьмем условное полотно Глеба Отчика за пять тысяч рублей: его легко продать в Беларуси?
— Нет. Пока что нет. Цена, которая у меня более-менее сложилась, — две тысячи рублей, я работаю в этом диапазоне. Цену на произведения, которые мне жалко продавать, я увеличиваю. Еще есть любимчики, которые вообще не продаются. У меня есть один секрет: когда пишешь картину с «заточкой» на продажу, ее никто не купит, а то, что искренне написано для себя, обязательно продастся, не сегодня, так завтра.
— Вы как-то высказывали мысль, что чтобы получить отклик от публики, искусство должно «будоражить». Как его таким создавать и где здесь пролегает граница между дозволенным и недозволенным?
— Надо осовременивать подачу и концепцию художественных проектов. Мне интересно делать тематические выставки типа «Аррlе смак», которую несколько лет назад мы приурочили к Яблочному Спасу и для которой предложили художникам, в том числе эстонцам, литовцам, ирландцам, обыграть тему яблока. У нас отлично выступила группа Аррlе Tеа, мы разливали кальвадос, и только на открытие, хотя оно было летом, пришло пятьсот человек, а вообще экспозицию увидело пять тысяч. На тему семейного насилия мы делали выставку «Граница», которая получилась, по отзывам гостей, не хуже биеннале. Чтобы искусство было интересное публике, оно должно быть современным. Сейчас я работаю над идеей выставки «Войти в IT» — мы же позиционируем себя как — IT-страну, — что ответит на вопрос, как современные технологии повлияли на жизнь и искусство. Предполагается, что авторы абсолютно разных направлений подготовят эскизные проекты, комиссия сделает отбор, и наилучшие получат гранты на шестимесячную работу. Помню, для выставки в честь пятисотлетия книгопечатания нам предлагали пейзажи и натюрморты — так же нельзя, поэтому на этот раз мы хотим получить специально подготовленные тематические работы. Мне самому интересно, как тему IT раскроет народный художник, а как — студент Академии.
— А если высказать предположение, что белорусское искусство не получает достаточного внимания, так как не соответствует повестке дня, вы согласитесь?
— Я много путешествую и могу сказать, что белорусское искусство профессиональное и разнообразное. Мы не потеряли школу, и наши творцы котируются за рубежом. Просто они пока что болтаются сами по себе — кто на серфинге, кто на лодочке, кто на надувном матрасе, кто просто гребет, кто-то в шапочке, кто-то без, а нужно посадить их в одну лодку и предложить поднять паруса. За три года у нас прошло 443 выставки, не считая международных пленэров и частных акций: думаю, такой отчет в Беларуси никто не дает. Мы слышим жалобы на то, что во Дворце искусства продаются мед, носки и трусы, так давайте превратим это в специальную акцию — предлагаем художникам поработать с медом или разрисуем трусы и представим авторское белье, т.е. пусть это будет событие. Надо что-то инициировать, но пока что с предложениями приходит только пять процентов художников, а остальные девяносто пять — я не знаю, откуда у нас это пошло — говорят: «Дай». Я даже хотел Союз переименовать в «Дай».
— Вы говорите, что концепцией можно привлечь внимание к искусству. Как думаете, привлек публику в сферу искусства перформанс Алексея Кузьмича в ЦСМ?
— Безусловно, так как об этом много говорили, мне даже знакомые из деревень на этот счет звонили. На мой взгляд, художественные акции и должны иметь какое-то продолжение, а не ограничиваться самими собой, но если загнанный в угол художник пытается до кого-то достучаться акционизмом, это в любом случае крайность, которая свидетельствует о существовании определенной проблемы. Я предлагаю пытаться достучаться вместе, для того общественное объединение и существует, как коллективный разум. Я приветствую идеи, рассчитанные на пользу для всего Союза, например, проекты, за которые мы получаем скидки на мастерской или продаем государству произведения. Надо быть реалистом, а не натягивать звезду на лоб в надежде на Млечный путь.
— Акция Алексея Кузьмича была направлена против цензуры со стороны Министерства культуры. Сталкиваетесь ли вы с цензурой?
— При Союзе художников работает выставочный комитет, где коллеги различных направлений — графики, живописи, монументального искусства и так далее — оценивают в первую очередь профессиональные достоинства произведений, а потом их соответствие авторитету организации, т.е. нормам нашего Устава и Кодекса о культуре. В церкви не станешь креститься треугольником, а никаких дополнительных запретов у нас нет. Во время подготовки выставки «Граница» мне как куратору пришлось отстаивать перед коллегой работу Михаила Гулина, в центре которой находилась нецензурное слово. Произведение мы в итоге оставили, пришло Министерство и никто даже из его представителей не увидел ничего крамольного. Искусство само по себе безгранично, может, кто-то сам рисует цензуру, но от нее нужно в любом случае избавляться.
— Одной из задач Союза, как я понимаю, является налаживание международных профессиональных отношений, а насколько на сегодняшний момент белорусские художники вписаны в международную тусовку?
Произведения наших авторов сохраняются и в частных зарубежных коллекциях, и в серьезных музеях. Посмотришь на их биографии — а они полны упоминаний о ведущих площадках. Я много бывал за границей: там знают Зою Литвинову, Леонида Хоботова, Василия Костюченко, Леонида Щемелева, в Италии часто называют Михаила Савицкого. Я сам до должности в Союзе художников поучаствовал в более чем сорока международных пленэрах и могу сказать, что белорусов приглашают с удовольствием: мы всегда ответственно и с высоким профессионализмом подходим к работе и поддерживаем национальную репутацию. Василий Шарангович рассказывал, как он делал дипломную работу в графике, а это было более пятидесяти лет назад: он работал полтора года, ночевал в мастерской и сдал пятнадцать листов. Эти произведения и сейчас выглядят современными, это не только титаническая, самоотверженная работа, но и высокопрофессиональная. Если работать, то заметят, могу вас заверить: на наши выставки в Минске ходят эксперты из Швеции, Норвегии, коллекционеры из других европейских стран. Все видят. Никто незамеченным не останется.
Фото Анны Занкович







